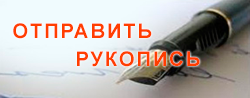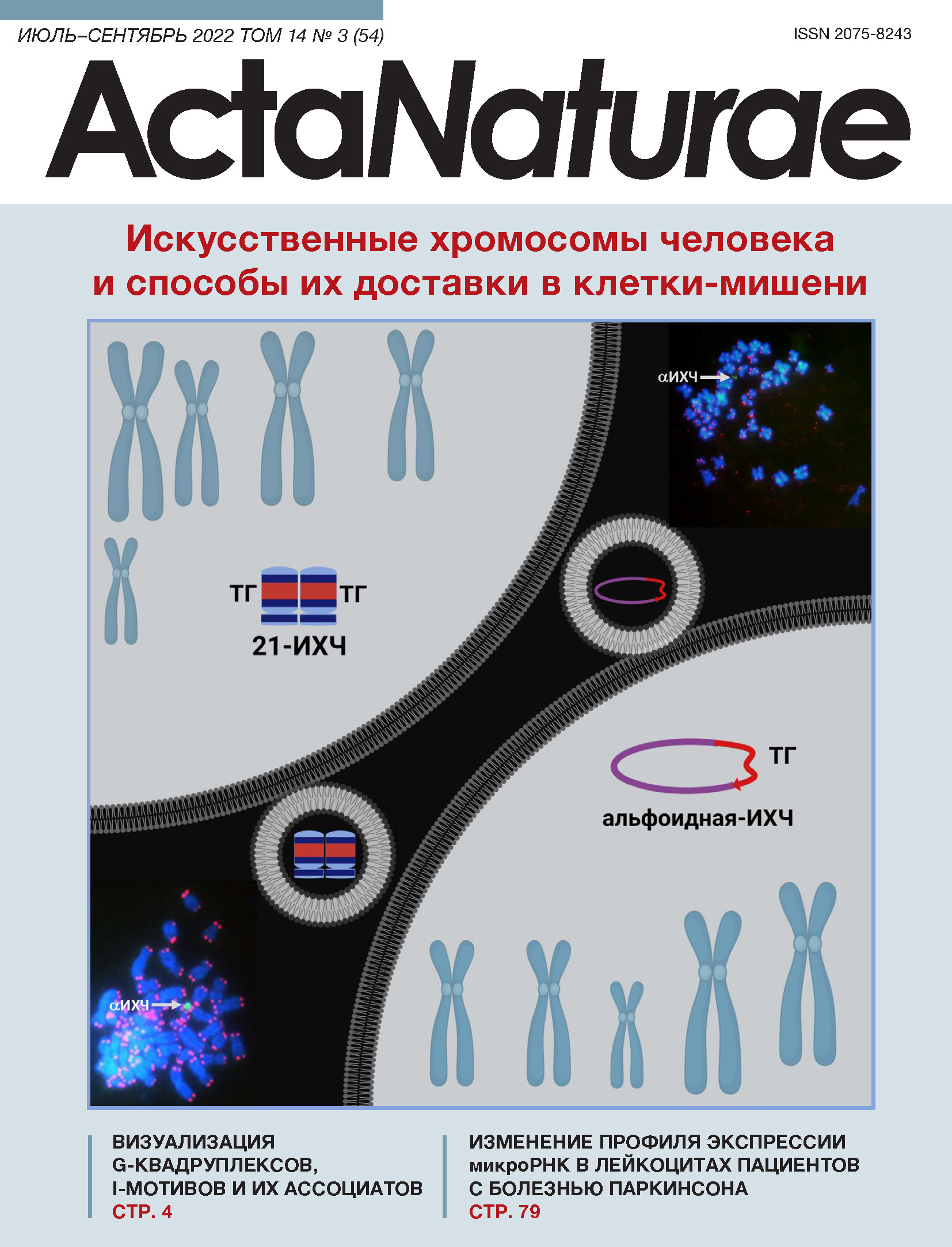Сахарный диабет 2 типа: особенности патогенеза и экспериментальные модели на грызунах
- Авторы: Гвазава И.Г.1, Каримова М.В.1, Васильев А.В.1,2, Воротеляк Е.А.1
-
Учреждения:
- Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 14, № 3 (2022)
- Страницы: 57-68
- Раздел: Обзоры
- Дата подачи: 09.06.2022
- Дата принятия к публикации: 22.07.2022
- Дата публикации: 29.10.2022
- URL: https://actanaturae.ru/2075-8251/article/view/11751
- DOI: https://doi.org/10.32607/actanaturae.11751
- ID: 11751
Цитировать
Аннотация
Наиболее распространенным эндокринным заболеванием в мире является сахарный диабет 2 типа (СД2). Патогенез этого заболевания сложен и не до конца выяснен. Основным инструментом изучения патофизиологии и терапии СД2 на сегодняшний день остаются исследования, проведенные на экспериментальных моделях. Грызуны считаются лучшими моделями, потому что имеют небольшой размер, отличаются легкостью индукции СД2, коротким индукционным периодом и экономической эффективностью. В данном обзоре собрана информация об используемых в настоящее время экспериментальных моделях СД2, оценены их преимущества и недостатки, подробно описаны факторы, которые следует учитывать при использовании моделей. Выбор модели, подходящей для решения конкретного вопроса, не всегда представляет тривиальную задачу и влияет на результаты исследования и их интерпретацию.
Полный текст
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ СД – сахарный диабет; СТЗ – стрептозотоцин; ИР – инсулинорезистентность.
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении многих десятилетий СД остается одной из первостепенных задач здравоохранения во всем мире в связи с ростом заболеваемости, инвалидизации и смертности. По данным Международной федерации диабета (IDF), в 2021 году насчитывалось 537 млн человек с диабетом, к 2030 году количество больных может достигнуть 643 млн, а фактическая распространенность сахарного диабета в разы превышает регистрируемую [1]. СД – хроническое заболевание, развивающееся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин – гормон, регулирующий содержание сахара в крови. Распространенным следствием неконтролируемого СД является гипергликемия, или повышенный уровень сахара в крови, со временем приводящая к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов [2].
Представленный обзор является логическим продолжением нашей работы, в которой обобщены данные о патогенезе СД 1 типа (СД1), как важнейший инструмент изучения СД рассмотрены наиболее часто используемые экспериментальные модели на животных. Проанализированы и обсуждены механизмы стрептозотоциновой модели СД, как наиболее адекватной и легко воспроизводимой [3]. СД 2 типа (СД2) является наиболее распространенным эндокринным заболеванием, его диагностируют более чем у 90% больных СД. Симптомы СД2 могут быть сходными с симптомами СД1, но часто они менее выражены [2]. В этом обзоре речь пойдет о патогенетических механизмах возникновения и прогрессирования СД2 и моделировании различных звеньев этого заболевания на грызунах для использования их в поиске новых терапевтических соединений и способов лечения СД2.
СД1 и СД2 имеют многочисленные клинические, иммунологические и генетические различия. СД2 (инсулиннезависимый, или диабет взрослых) развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом. Болезнь нередко диагностируется по прошествии нескольких лет после ее возникновения, уже после появления осложнений. СД этого типа до недавнего времени наблюдался лишь у взрослых, однако теперь он все чаще поражает и детей, поскольку детское ожирение, с которым ассоциирован СД, превратилось в эпидемию [2]. Долгое время существовало ошибочное мнение, что СД2 это легкая форма заболевания, при которой осложнения могут и не возникнуть, но на сегодняшний день ученые твердо убеждены, что речь идет о тяжелом хроническом, постоянно прогрессирующем заболевании, при котором уже более 50% больных имеют поздние осложнения к моменту установления диагноза. Высокая распространенность СД2 среди некоторых этнических групп и родственников больных указывает на существование генетических факторов в развитии этого заболевания. За последние годы выявлено несколько вариантов генетического полиморфизма СД, однако не обнаружено какого-либо одного гена, ответственного за наиболее распространенную форму инсулиннезависимого СД. Считается, что существуют два типа СД2: с повреждением отдельных генов (10–15%) и с повреждением множества генов (85–90%), ответственных за связывание инсулина рецепторами клеток, а также за интернализацию гормон-рецепторного комплекса, за аутофосфорилирование бета-рецепторов или фосфорилирование других белковых компонентов мембран. Примером множественного повреждения может служить инсулинорезистентность (ИР) клеток, обусловленная множественными мутациями гена рецептора инсулина. В этом гене выявлено до 30 различных мутаций [4–9].
СД2 – это многофакторное заболевание, характеризующееся большой гетерогенностью метаболических нарушений, среди которых наиболее распространены недостаточная продукция инсулина, ИР и нарушение инкретиновой системы. Важно понимать мультипричинную природу СД2, которая определяется аддитивным действием генов и окружающей среды, поэтому не существует простой генетико-эпидемиологической модели, объясняющей характер наследования этого заболевания. Отсюда возникает необходимость установления доли заболевания, определяемой генами, и вклада факторов внешней среды, совокупность которых регулирует порог или уровень толерантности к развитию СД [6, 7].
Несмотря на доступность современных методов лечения, СД2 представляет актуальную проблему для системы здравоохранения во всем мире. В первую очередь, это обусловлено ростом заболеваемости, связанным с такими факторами, как старение населения и увеличение распространенности ожирения в популяции. Люди подвергаются потенциально более высокому риску развития СД2 по мере старения. Избыточная масса тела или ожирение способствуют развитию синдрома инсулинорезистентности и гипергликемии. Прогрессирующее течение СД2 означает, что для достижения и поддержания контроля гликемии недостаточно изменить образ жизни, большинству больных СД2 требуется медикаментозное лечение [4, 5].
СД2 относительно легко диагностировать при наличии симптомов. Однако, согласно данным Британского исследования диабета (UKPDS), СД2 остается не выявленным в течение многих лет. От момента начала СД2 до постановки клинического диагноза проходит от 3 до 6 лет. Поэтому раннее выявление СД2 остается актуальным, особенно у лиц, имеющих высокий риск развития этого заболевания. Более чем у половины больных на момент установления диагноза СД уже есть несколько осложнений. Выраженную ретинопатию имеют 20–40% больных. Развитие диабетических осложнений, таких, как ретинопатия, нефропатия, нейропатия, обусловлено длительно существующей гипергликемией. Этот факт указывает на необходимость и важность контроля уровня сахара в крови [2].
Патогенез СД2 сложен и не до конца выяснен. В настоящее время ключевыми звеньями патогенеза СД2 считают ИР, нарушение секреции инсулина, повышение продукции глюкозы печенью, а также наследственную предрасположенность и особенности образа жизни и питания, ведущие к ожирению. Когда секреция инсулина уже не в состоянии компенсировать ИР, развивается гипергликемия. Хотя для пациентов с СД2 и тех, кто находится в группе риска, характерна именно ИР, существуют данные о дисфункции β-клеток и связанной с этим нарушениями секреции инсулина, включая первую фазу секреции в ответ на внутривенное введение глюкозы, нарушение физиологической импульсной секреции инсулина, повышенную секрецию проинсулина, указывающую на нарушение процессинга инсулина, и накопление в островках поджелудочной железы амилоида (который в норме секретируется вместе с инсулином). Снижение массы и функции β-клеток имеет фундаментальное значение для патогенеза СД2. Потеря массы β-клеток плохо изучена, но предполагается, что ускоренная потеря β-клеток способствует развитию ИР. Предполагаемые механизмы, ответственные за потерю β-клеток при СД2, включают образование амилоида и стресс эндоплазматического ретикулума, но их относительный вклад неизвестен. Представляет интерес патология островков Лангерганса при СД2, отличающаяся поразительной гетерогенностью, так, например: многие островки Лангерганса выглядят совершенно нормально, некоторые содержат большие отложения амилоида, а другие их не содержат. Предполагается, что различный клеточный возраст β-клеток может быть одним из факторов, лежащих в основе их гетерогенности [10, 11]. Образование амилоида в островках Лангерганса, оказывая токсическое действие на гормонопродуцирующие островковые клетки, повреждает поджелудочную железу. В итоге, гиперпродукция гормонов при СД2 сменяется их дефицитом [12–14]. Гипергликемия и сама по себе может нарушать секрецию инсулина, поскольку высокие уровни глюкозы снижают чувствительность клеток и/или нарушают их функцию (глюкозотоксичность). Эти изменения на фоне инсулинорезистентности развиваются обычно на протяжении многих лет [10, 11, 15, 16]. Важным условием развития ИР при СД2 являются ожирение и набор веса. В основе ожирения могут лежать генетические факторы, но важную роль играют также пищевые предпочтения, интенсивность физических нагрузок и образ жизни в целом. Организм не может подавить липолиз в жировой ткани, поэтому из нее высвобождаются свободные жирные кислоты, а повышение их уровня в плазме может нарушать стимулируемый инсулином транспорт глюкозы и активность гликогенсинтазы в мышцах. Жировая ткань функционирует и как эндокринный орган, секретируя в кровь множество факторов (адипоцитокинов), которые положительно (адипонектин) или отрицательно (фактор некроза опухолей-альфа, интерлейкин-6, лептин, резистин) влияют на метаболизм глюкозы. Внутриутробная задержка роста и низкий вес при рождении также ассоциированы с развитием инсулинорезистентности в более позднем возрасте, что может отражать неблагоприятное пренатальное влияние факторов внешней среды на метаболизм глюкозы. В настоящее время ИР в большей степени связывают с нарушением действия инсулина на пострецепторном уровне, в частности, со значительным снижением мембранной концентрации специфических транспортеров глюкозы (GLUT-4, GLUT-2, GLUT-1) [5–7, 17, 18].
Итак, cогласно современным представлениям о клеточно-молекулярных механизмах CД2, ИР, или снижения биологического ответа клеток на один или несколько эффектов инсулина при его нормальной концентрации в крови, является первым звеном патогенеза этого заболевания. ИР приводит к неспособности инсулинзависимых тканей (мышечной и жировой) поглощать глюкозу плазмы крови и нарушению синтеза гликогена (полимера глюкозы) в печени. Тонкие механизмы развития инсулинорезистентности при СД2 на сегодняшний день изучены не до конца. Хотя точная основная причина инсулинорезистентности не полностью выяснена, предполагается существование ряда основных механизмов, включая окислительный стресс, воспаление, мутации рецепторов инсулина, стресс эндоплазматического ретикулума и митохондриальную дисфункцию [19–24]. Известно, что ИР влияет на активность ферментов гликолиза и глюконеогенеза, синтеза гликогена и гликогенолиза, β-окисления жирных кислот и липогенеза. Инсулин тормозит мобилизацию жиров и захват циркулирующих в крови свободных жирных кислот клетками, потенцирует синтез белков практически во всех тканях, в первую очередь, в скелетных мышцах, миокарде, печени, влияет на захват и транспорт аминокислот, из которых состоят все белки, и основных ионов. В норме двухцепочечная молекула инсулина связывается со специальным рецептором, расположенным на мембране клетки и имеющим тирозинкиназный фрагмент, обладающий ферментативной активностью, что запускает процесс аутофосфорилирования тирозина с последующей активацией белков, участвующих во вторичной передаче сигнала (IRS-1 – субстрат-1 рецептора инсулина, Shc-1, SIRP-α, Gab-1, Cbl-b и др.). Белки IRS-1 активируют фосфатидилинозитолкиназу-3, которая, в свою очередь, инициирует эффект протеинкиназ В. Протеинкиназы В и С запускают каскад ферментов, регулирующих углеводный и жировой обмен, и вызывают встраивание белков-переносчиков глюкозы (GLUT-4) в мембраны инсулинзависимых клеток (адипоцитов и миоцитов). Так происходит транспорт молекул глюкозы из плазмы крови внутрь клеток [18, 19, 24, 25]. Параллельно с активацией поступления глюкозы запускаются механизмы синтеза оксида азота в эндотелиальных клетках сосудов мышечной ткани, а также интенсивного захвата аминокислот и синтеза клеточных белков, торможения процессов апоптоза. Другая группа белков вторичной передачи сигнала от рецептора инсулина (Shc-, Sos-, Ras-, Raf-, Map-) регулирует механизмы митоза и пролиферации клеток, активирует синтез медиаторов воспаления. Подробное изучение пути действия инсулина на внутриклеточные процессы позволяет представить многогранность возможных факторов развития инсулинорезистентности. Молекулярными причинами утраты способности передавать сигнал может быть подавление активности тирозинкиназы IRS-1 или фосфатидилинозитолкиназы-3, обусловленное различными мутациями гена, кодирующего рецептор инсулина. Нарушение процесса поступления глюкозы в клетку может быть вызвано снижением эффективности протеинкиназ В и С или структурной неполноценностью трансмембранного переносчика глюкозы (GLUT-4). Все перечисленные механизмы возникновения инсулинорезистентности могут быть врожденными, генетически детерминированными, они описаны для определенных синдромов. Гораздо чаще нарушение реализации биологических эффектов инсулина возникает в течение жизни под действием дополнительных факторов. Ключевым механизмом развития приобретенной инсулинорезистентности в настоящее время считается снижение тирозинкиназой активности рецептора инсулина. Доказанным фактором нарушения тирозинкиназного звена передачи внутриклеточного сигнала является мембранный гликопротеин – белок РС-1, избыточно вырабатываемый клетками мышечной и жировой ткани. Блокаторы эффектов тирозинкиназы – протеинкиназа С и фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), также интенсивно синтезируются адипоцитами [5, 18, 19].
Еще один фактор развития инсулинорезистентности – снижение активности фосфатидилинозитолкиназы-3, обусловленное дисбалансом ее субъединиц при воздействии некоторых гормонов (глюкокортикоидов, половых стероидов) или избыточного поступления в клетки свободных жирных кислот и триглицеридов, приводящего к накоплению диацилглицерина. Жировая ткань играет важную роль в энергетическом гомеостазе всего организма и регуляции метаболических функций. Она служит хранилищем избыточной энергии в виде триглицеридов в адипоцитах и контролирует мобилизацию липидов во время голодания, высвобождая свободные жирные кислоты [24, 26, 27]. С открытием таких факторов, продуцируемых адипоцитами, как лептин, адипонектин и резистин, жировая ткань признается сложным эндокринным органом. Через передачу сигналов адипокинов жировая ткань способна связываться со многими органами (печенью, поджелудочной железой, мышцами и мозгом) и модулировать системный метаболизм [27–31]. Таким образом, дисфункция жировой ткани играет важную роль в патогенезе таких метаболических нарушений, как ожирение, резистентность к инсулину и СД [32].
Помимо описанных общих механизмов нарушения реализации эффектов инсулина, важнейшую роль в возникновении инсулинорезистентности при избыточном развитии жировой ткани начинают играть биологически активные вещества, вырабатываемые адипоцитами, оказывающие глубокое влияние на системный метаболизм. Метаболиты адипоцитарного происхождения (адипоцитокины) способны влиять на различные биохимические процессы во многих органах и тканях. В настоящее время известно более 100 химических соединений подобного происхождения, многие из которых имеют прямое или опосредованное отношение к развитию инсулинорезистентности [27, 33, 34].
Пептидный гормон лептин (Lep) – один из первых идентифицированных адипоцитокинов, кодируется геном ob (ген ожирения) [35, 28]. Помимо адипоцитов, лептин продуцируют многие ткани и органы (печень, мышцы, яичники и др.), что свидетельствует о многообразии его биологических эффектов. Лептин занимает центральное место в контроле энергетического гомеостаза и массы тела. Наиболее изученный механизм действия гормона – стимуляция центра насыщения, расположенного в гипоталамусе. В норме Lep у млекопитающих оказывает анорексигенное, катаболическое, липолитическое и гипогликемическое действие, благодаря которому формируется механизм отрицательной обратной связи. При ожирении действие Lep нарушается в результате ослабления его нормального переноса через гематоэнцефалический барьер или связывания с циркулирующей в крови формой рецептора [36, 37].
При повышении концентрации лептина в крови снижается или исчезает чувство голода. Однако при длительном и стойком повышении уровня гормона развивается лептинорезистентность – невосприимчивость клеток-мишеней гипоталамуса к его воздействию. Лептинорезистентность приводит к избыточному поступлению триглицеридов и свободных жирных кислот в клетки инсулинзависимых тканей. Таким образом возникает ИР [38].
Адипонектин вырабатывается исключительно адипоцитами и играет важную роль в регуляции метаболизма липидов и углеводов (глюкозы), повышая чувствительность жировой и мышечной ткани к инсулину. Внутриклеточные эффекты адипонектина реализуются посредством активации АМР-киназы и фосфатидилинозитолкиназы-3, регулирующих окисление свободных жирных кислот. Адипонектин снижает продукцию медиаторов воспаления (интерлейкина-6, интерлейкина-8, ФНО-α и др.), а также тканевых металлопротеаз, угнетающих функцию тирозинкиназы рецептора инсулина (IRS-1) [39–41]. Снижение уровня адипонектина при избыточном развитии жировой ткани по механизму обратной связи (уменьшение выработки гормона при достижении необходимого уровня его эффекта – создания энергетического запаса клеток) является одним из факторов развития инсулинорезистентности [42, 43].
На чувствительность жировой и мышечной ткани к инсулину влияет также адипоцитокин с изученным механизмом действия – резистин. Аналогичным эффектом обладает ангиотензиноген и ряд других гормоноподобных соединений, вырабатываемых клетками жировой ткани [44, 45].
Утрата чувствительности тканей к действию инсулина приводит к компенсаторной гиперпродукции гормона β-клетками поджелудочной железы. Повышение концентрации инсулина в плазме крови в течение какого-то времени позволяет преодолевать барьер инсулинорезистентности, сохраняя необходимый уровень поступления глюкозы в клетки. Однако постепенно резервные возможности инсулярного аппарата поджелудочной железы исчерпываются и развивается декомпенсация – СД [46].
Большое внимание уделяется развитию инновационных технологий в борьбе с распространением СД. Несмотря на огромный прогресс молекулярно-генетических исследований в области СД2 [47–52], вопросы его профилактики и патогенетического лечения до сих пор не разработаны на должном уровне.
Как известно, успех теоретических исследований и разработки методов профилактики и лечения заболевания невозможен без моделирования болезни на экспериментальных животных и обусловлен правильным выбором животного. Только с помощью экспериментальных моделей, максимально соответствующих этиологии и патогенезу заболевания, можно получить сведения, ценные для понимания механизма антидиабетического действия различных агентов, с целью направленного их применения. Объективный анализ достоинств и недостатков каждой модели в соответствии с поставленной целью позволит избежать ошибочных результатов [3].
Итак, СД2 признан одним из сложных, генетически гетерогенных заболеваний человека, в патогенез которого вовлечены как наследственность, так и факторы окружающей среды в целом. CД2 изучают, моделируя заболевание на мышах и крысах. Грызуны считаются лучшим выбором среди животных моделей, потому что они относительно недороги в содержании, быстро размножаются, что позволяет изучать генетические эффекты через несколько поколений в течение разумного периода времени и, что очень важно, геном грызунов имеет более 90% сходства с геномом человека [53]. Причем, крысы более предпочтительны, чем мыши, поскольку на крысах проще проводить операции за счет их большего размера; к тому же они более устойчивы к различным заболеваниям.
В данной работе мы продолжим анализ существующих экспериментальных моделей с целью выявления наиболее адекватной и доступной модели для изучения СД, а именно СД2. Патогенез СД1 и его лабораторные модели описаны в предыдущей работе [3].
Модели СД2 на грызунах подразделяются на два основных класса: генетические, или спонтанно индуцированные, и негенетические, или экспериментально индуцированные. Как известно, негенетические модели более популярны, чем генетические, в силу их более низкой стоимости, большей доступности, более легкой индукции диабета и, конечно же, более простого содержания [3].
Поскольку CД2 характеризуется резистентностью к инсулину и неспособностью β-клеток к достаточной компенсации, модели СД2 на животных, как правило, включают моделирование резистентности к инсулину и/или недостаточности β-клеток. Многие животные модели страдают ожирением, что отражает состояние человека, при котором ожирение тесно связано с развитием СД2. Ожирение может быть результатом природных мутаций или генетических манипуляций, а также употребления пищи с высоким содержанием жиров.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Моногенные модели с ожирением
Для тестирования новых методов лечения СД2 в качестве моногенных моделей ожирения наиболее широко используются грызуны – крысы Zucker с диабетом и ожирением (Zucker diabetic fatty, ZDF) и мыши линии Lep ob/ob, Lepr db/db, характеризующиеся дефицитом рецептора лептина [36, 37]. У этих моделей при ожирении наблюдается нарушение рецепции Lep. Мутация гена в LEPR при гомозиготном состоянии делает соответствующий рецептор нефункциональным. У этих животных, с одной стороны, отсутствует влияние запасов жира на объем потребляемой пищи, что приводит к быстрому развитию ожирения даже при стандартном сбалансированном рационе. С другой стороны, нарушение процессов рецепции и интернализации Lep клетками ослабляет его клиренс, что приводит к резкому повышению уровня этого гормона в крови и развитию не свойственных ему в норме иммунотропных эффектов, обусловленных частичной гомологией структуры Lep и ряда цитокинов и хемокинов [54, 55]. В органах и тканях таких животных изменяется экспрессия большого числа генов, отвечающих за функционирование разнообразных метаболических путей, определяющих гомеостаз организма. В организме устанавливается метаболический дисбаланс. Поскольку лептин вызывает чувство сытости, недостаток функционального гормона вызывает у этих животных гиперфагию и последующее ожирение [56–58]. Эти изменения в значительной степени соответствуют изменениям у больных с алиментарным ожирением.
Линия мышей Lep ob/ob происходит от мышей со спонтанной мутацией, обнаруженной в беспородной колонии в лаборатории Джексона в 1949 году. Мышей с этим фенотипом скрестили с мышами C57BL/6, но только в 1994 году мутантный белок был идентифицирован как лептин [59]. К двухнедельному возрасту у этих мышей увеличивается вес и развивается гиперинсулинемия. К 4-м неделям становится очевидной гипергликемия, при этом концентрация глюкозы в крови продолжает расти, достигая пика к 3–5 месяцам, после чего снижается по мере взросления мыши. Также у них наблюдается гиперлипидемия, нарушение терморегуляции и снижение физической активности. Поджелудочная железа гипертрофирована. Несмотря на нарушение выведения инсулина, островки поддерживают секрецию, что не делает модель полностью репрезентативной для СД2 у человека. Однако у мышей линии C57Bl/KS развивается гораздо более тяжелый диабет с регрессом островков и ранней смертностью. Кроме того, эти мыши бесплодны [60, 61].
Линия мышей Lepr db/db получена в лаборатории Джексона в результате аутосомно-рецессивной мутации в рецепторе лептина. В 2-недельном возрасте у этих мышей наблюдается гиперинсулинемия, ожирение и гиперфагия проявляются с 3–4-недельного возраста, а гипергликемия развивается в 4–8-недельном возрасте. Наиболее часто используется линия мышей C57BLKS/J, в возрасте нескольких месяцев у них развивается кетоз, они имеют относительно короткую продолжительность жизни [62, 63].
Классической моделью для исследования ожирения, СД2, гипертонии и нарушений функции сердца служат крысы линии Zucker, названные так в честь патологов Луиса и Теодора Цукеров из Колумбийского университета, обнаруживших в 1961 году ген, ответственный за ожирение у крыс. Цукеры впервые после скрещивания линии крыс Merck M и Sherman выявили спонтанную рецессивную мутацию fa (fatty – жирный) в гене Lepr, кодирующем рецептор гормона насыщения – лептина. Мутантный рецептор лептина вызывает у этих крыс в 4-недельном возрасте ожирение [64], для них также характерны гиперинсулинемия, гиперлипидемия и гипертензия, а также нарушение толерантности к глюкозе [63]. Мутация у крыс этого штамма привела к возникновению подштамма с диабетогенным фенотипом: инбредные крысы линии ZDF – диабетические крысы Zucker с ожирением. Эти крысы менее тучны, чем крысы Zucker с ожирением, но имеют более выраженную резистентность к инсулину. Компенсировать резистентность из-за повышенного уровня апоптоза в β-клетках этих животных не удается [65]. Наблюдается гиперинсулинемия в возрасте примерно 8 недель с последующим снижением уровня инсулина [66]. Диабет обычно развивается в возрасте около 8–10 недель у самцов, у самок явный диабет не развивается. У этих крыс также обнаруживаются признаки диабетических осложнений [63].
Полигенные модели с ожирением
Полигенные модели ожирения, в отличие от описанных моногенных моделей, могут дать более точную модель состояния человека. Известны многочисленные полигенные мышиные модели ожирения, непереносимости глюкозы и диабета, что дает возможность детального изучения различных генотипов и их восприимчивости. Однако у полигенных моделей (в отличие от моногенных) нет контролей дикого типа и наблюдается половой диморфизм с предпочтением мужских особей [67]. Полигенные модели: мыши КК и КК АY, крысы OLETF, мышь NZO и др. характеризуются гипергликемией, вызванной ожирением, тяжелой гиперинсулинемией и резистентностью к инсулину как в мышечной, так и в жировой ткани, выраженными изменениями в панкреатических островках – от гипертрофии и дегрануляции до фиброза и замещения их соединительной тканью [67–70]. Ряд работ, посвященных устранению симптомов СД2, изучению взаимосвязи ожирения и гомеостаза глюкозы, а также диабетических осложнений, сделаны с использованием полигенных моделей [71–86].
Модели с индуцированным ожирением
Диета с высоким содержанием жира приводит к ожирению. Впервые модель кормления мышей C57BL/6 пищей с высоким содержанием жира была описана в 1988 году [87]. Показано, что мыши, получавшие корм с высоким содержанием жиров (около 60%), уже через неделю могут весить больше, чем контрольная группа, получавшая стандартный корм. Использование этой диеты в течение нескольких недель вызывает более выраженное увеличение веса, связанное с резистентностью к инсулину, а отсутствие компенсации β-клеток приводит к нарушению толерантности к глюкозе [88]. Считается, что в этой модели ожирение обусловлено внешним воздействием, а не генами, поэтому оно более точно соответствует заболеванию у людей, чем генетические модели диабета, вызванного ожирением. Показано, что у трансгенных или нокаутных моделей, которые могут не проявлять явного диабетического фенотипа в нормальных условиях, корм с высоким содержанием жиров приводит к тому, что β-клетки как бы «подталкиваются» и ген приобретает значение. Восприимчивость к метаболическим изменениям, вызванная диетой, зависит от линии мышей. Так, при использовании более устойчивого штамма эффекты могут быть упущены [89–95]. Например, для инбредной линии мышей C57BL/6 характерна гетерогенность реакции на корм с высоким содержанием жиров. Но дифференциальные ответы на рацион с высоким содержанием жиров не являются обязательными даже в случае чисто генетических крыс и мышей [96].
Для изучения СД2 используют грызунов, определяемых как полезные модели. К ним относятся пустынная песчанка (Psammomys obesus – впервые обнаруженная в 1960 году) и недавно описанная нильская травяная крыса (Arvicanthis niloticus) [97]. У большинства из этих животных, содержащихся в неволе на обычной диете в течение года, спонтанно развивается диабет, который прогрессирует от стадии легкой гипергликемии с гиперинсулинемией до тяжелой гипергликемии с гипоинсулинемией и кетоацидозом. Прогрессирование от стадии к стадии можно предотвратить, ограничивая потребление пищи, но восстановление после финальной гипергликемической и инсулинопенической стадии невозможно. У этих грызунов, несмотря на то, что они не гиперфагичны, постоянная доступность высококалорийного корма приводит к развитию ожирения, дислипидемии, гипергликемии и другим признакам диабета и метаболического синдрома, таким, как снижение массы β-клеток, атеросклероз и стеатоз печени. Предполагается, что из-за плохой адаптации к избыточному питанию P. obesus может представлять собой идеальную модель эффекта «гена бережливоcти», благодаря которому у животного после быстрого перехода от дефицита корма к избытку часто развивается ИР и метаболический синдром. Эти животные являются ценной спонтанной моделью для исследований, направленных на предотвращение диабета, вызванного пищевым рационом, и представляют собой новую систему взаимодействий между генами и рационом, влияющую на использование энергии. Эта модель позволит лучше понять подходы к профилактике и лечению СД2 и метаболического синдрома [97–101].
Модели без ожирения
Однако не все пациенты с СД2 страдают ожирением и, конечно, в этой связи необходимо моделирование СД2 на животных без ожирения с нарушениями в функционировании β-клеток [102]. Наиболее известной моделью СД2 без ожирения являются крысы Гото-Какидзаки (GK) [103]. Эта модель получена путем многократного скрещивания крыс Wistar, характеризующихся наихудшей толерантностью к глюкозе. Предполагается, что развитие резистентности к инсулину не является основным инициатором гипергликемии в этой модели, а нарушение метаболизма глюкозы считается следствием аберрантной массы β-клеток [104] и/или их функции [105]. Влияние морфологии островков Ларгенганса поджелудочной железы на их метаболизм в разных колониях этих крыс различается. Так, например, в некоторых из них (колонии крыс из Стокгольма и Далласа) объем и плотность β-клеток сходны с контролем, по-видимому, гипергликемия у них вызвана дефектами секреции инсулина, в парижской же колонии крыс GK наблюдалось снижение массы β-клеток [105]. GK является одной из наиболее хорошо охарактеризованных животных моделей спонтанного СД2, пригодной для изучения важных аспектов заболевания. Предполагается, что дефектная масса и функция β-клеток в модели GK отражают сложные взаимодействия множества патогенных факторов. В число этих факторов входят несколько независимых локусов, содержащих гены, ответственные за некоторые диабетические признаки (но не снижение массы β-клеток); гестационное метаболическое нарушение, индуцирующее эпигенетическое программирование поджелудочной железы (снижение неогенеза и/или пролиферации β-клеток), которое передается следующему поколению; и потеря дифференцировки β-клеток из-за хронического воздействия гипергликемии/гиперлипидемии, медиаторов воспаления, окислительного стресса и нарушенной микроархитектоники островков [101]. Крыс GK использовали как для изучения дисфункции β-клеток при CД2 [106–109], так и диабетических осложнений [110, 111]
Мыши hIAPP. Для СД2 человека характерно образование амилоида в ткани островков, происходящих из амилоидного полипептида островков (IAPP) [10, 112, 113]. Кроме человека и макаков, амилоид образуется в ткани островков поджелудочной железы у кошек, что делает их хорошей моделью для изучения амилоидоза островков. Этот аспект заболевания на грызунах обычно не моделируют, поскольку IAPP грызунов не является амилоидогенным [11, 12, 114, 115]. Однако созданы трансгенные мыши, экспрессирующие IAPP (hIAPP) человека под инсулиновым промотором, у которых амилоид может образовываться внутри островков. С использованием большого количества моделей hIAPP показано, что повышение экспрессии hIAPP увеличивает токсичность β-клеток [116]. Кроме того, реплицирующиеся β-клетки более восприимчивы к токсичности hIAPP, поэтому в этой модели ограничена адаптация β-клеток к повышенной потребности в инсулине [117].
Нокаутные и трансгенные мыши также используются для создания специфических моделей СД2. Эти модели стали мощным инструментом в выяснении влияния специфических генов на метаболизм глюкозы и патогенез заболевания [63, 118]. С помощью нокаутных и трансгенных мышей получено понимание того, какие факторы транскрипции участвуют в развитии поджелудочной железы и каковы пути передачи сигналов инсулина. Тканеспецифические нокауты оказались особенно полезными при изучении передачи сигналов инсулина, поскольку мыши с глобальным нокаутом рецептора инсулина нежизнеспособны [119–123].
Хотя СД2 является наиболее распространенной формой диабета, однако проблем с разработкой модели на животных при СД2 больше, чем при СД1. Генетические модели, как например, диабетическая крыса Zucker с ожирением и мышь db/db, возможно, наиболее близки к заболеванию у человека. Тем не менее, использование этих моделей ограничено, поскольку они имеют некоторые важные отличия и не точно моделируют СД2 у человека [124], а, кроме того, имеют высокую стоимость.
СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫЕ МОДЕЛИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Стрептозотоциновые модели (СТЗ СД2) являются наиболее часто используемыми моделями СД2 на животных. Разработаны две потенциально полезные модели СТЗ СД2. Модель с одновременным введением никотинамида крысам для частичной защиты β-клеток от CТЗ [125] основана на том, что никотинамид защищает от диабетогенного эффекта СТЗ [126, 127]. Эта комбинация создает модель инсулиндефицитного, но не инсулинрезистентного СД2, характеризующегося стабильной умеренной гипергликемией, связанной примерно с 60% потерей функции β-клеток [125, 128]. При использовании этого протокола у 75–80% животных развивается умеренная гипергликемия не натощак, а у остальных животных либо через 2–3 недели развивается сильная гипергликемия, либо они остаются нормогликемическими, но с нарушенной толерантностью к глюкозе. Тот же протокол можно использовать для мышей. Необходимо помнить, что решающее значение имеют доза СТЗ и время между введением никотинамида и СТЗ. Так, если доза СТЗ слишком высока или задержка времени между введением никотинамида и СТЗ слишком велика, то будет наблюдаться больший дефицит инсулина [129].
Поскольку у большинства пациентов с СД2 в дополнение к нарушенной секреции инсулина наблюдается резистентность к инсулину, была разработана другая модель, позволяющая более точно имитировать состояние человека. В этом случае для развития резистентности к инсулину животные получали корм с высоким содержанием жиров с последующим введением умеренных доз СТЗ для снижения функции β-клеток [130]. В результате получали гипергликемию, связанную с гиперинсулинемией и резистентностью к инсулину [131]. Рекомендуемая диета обеспечивает 60% своей калорийности в виде жира; следует использовать коммерческую сбалансированную диету, а не добавлять жиры к стандартному корму [132]. Использование диеты с высоким содержанием жиров для индукции резистентности к инсулину с последующим приемом малых и средних доз СТЗ для развития дефицита инсулина от легкой до умеренной степени в настоящее время может быть наиболее полезной из моделей СД2. Животные, содержащиеся на диете с высоким содержанием жиров, обычно считаются лучшей моделью для характеристики многих осложнений, связанных с диабетом человека [133].
Доза СТЗ должна вызывать стабильную гипергликемию у крыс, получавших высокожировую диету в течение по крайней мере 130 дней. Если доза СТЗ слишком велика, то получается модель, более похожая на СД1, и смертность крыс увеличивается [134]. Использование двух более низких доз СТЗ (30 мг/кг, внутрибрюшинно), вводимых с недельными интервалами, приводит к развитию диабета у 85% животных со средним уровнем глюкозы в крови натощак ~14 ммоль/л (~252 мг/дл) [134]. Другие экспериментаторы рекомендуют вводить 30 мг/кг СТЗ внутрибрюшинно в качестве оптимальной дозы для 12-недельных крыс Sprague-Dawley, получавших диету с высоким содержанием жиров в течение 8 недель [135].
Как известно, попадая в кровоток, СТЗ переносится в β-клетки поджелудочной железы с помощью белка-транспортера глюкозы 2 (GLUT-2). Внутри β-клеток СТЗ прерывает ряд важных клеточных процессов и, если повреждение достаточно, достигает кульминации в повреждении ДНК и гибели клеток [3, 136, 137]. Конечным результатом введения СТЗ является снижение функциональной массы β-клеток, что проявляется дефицитом инсулина и последующей неспособностью обрабатывать глюкозу [137]. Сочетание недостаточности инсулина с высокожирной диетой, при которой требуется повышенное содержание инсулина для учета клеточной резистентности к инсулину [138, 139], приводит к состоянию непереносимости глюкозы [140], характерному для СД2 у человека. Непрерывное слабо выраженное поражение β-клеток вызывает более устойчивые и последовательные высокоточные эффекты, чем однократная большая доза. Так, введение СТЗ с помощью осмотических мини-насосов, в отличие от внутрибрюшинного или внутривенного введения, обеспечивает значительно больший контроль над результирующим уровнем гипергликемии при сохранении фенотипа ожирения [141]. Авторы заключили, что наблюдаемое общее повышение эффективности связано, вероятнее всего, c длительным воздействием на β-клетки. Кроме того, дозозависимый эффект СТЗ обусловлен реципрокным снижением секреторной способности инсулина и морфологическими изменениями поджелудочной железы. Считается, что эта модель способна воспроизводить различные стадии СД2, определяемые дозозависимым действием СТЗ на непереносимость глюкозы. Этот метод требует меньшего количества животных для наблюдения значительных эффектов, чем методы, использованные ранее [142, 143], где животные либо не реагируют на СТЗ, либо умирают в зависимости от дозы препарата [141].
Как замечено нами ранее, несмотря на большое разнообразие описанных на сегодняшний день животных моделей СД, предпочтение отдается СТЗ-индуцированному диабету. Механизм действия СТЗ, дозы и способы введения, видовые и гендерные различия в чувствительности к СТЗ подробно описаны в первой части нашей работы [3]. Преимущество индуцированного СТЗ диабета заключается в относительной простоте воспроизведения, высокой избирательности воздействия, возможности «получения» диабета различной степени тяжести и длительности, что позволяет смоделировать как постепенно развивающуюся дисфункцию β-клеток, так и нарушение толерантности к глюкозе, и развитие связанных с ней расстройств [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, важно подчеркнуть, что длительное течение СД2 у человека затрудняет моделирование болезни, необходимы дополнительные модели и методологии на животных. Очень важна разработка моделей на животных, которые точно воспроизводят патогенез СД2 у человека, поскольку это позволит определить профилактические и терапевтические стратегии, направленные на СД2 и на связанные с ним осложнения. При СД2 важно учитывать механизмы, лежащие в основе гипергликемии, и их отношение к исследованию. Эти механизмы могут включать резистентность к инсулину и/или недостаточность β-клеток. В самом деле, определение того, может ли медикаментозное вмешательство уменьшить симптомы в любой данной модели, может зависеть от того, отказали ли β-клетки. Модели также различаются по своей физиологической значимости, при этом некоторые из них больше напоминают развитие болезни, чем другие. Такие модели, как регенерация поджелудочной железы, довольно экстремальны, и еще предстоит выяснить, могут ли механизмы экспансии β-клеток в этих моделях иметь значение в развитии СД у человека.
Выбор модели зависит от цели исследования. Модели на лабораторных животных, полезные для оценки потенциальных антидиабетических средств, а также для изучения осложнений, вызванных диабетом, имеют ограниченную конструктивную валидность, поэтому они менее применимы в качестве инструментов для определения этиологии состояния [144].
Моделирование диабета на крысах и мышах имеет явные преимущества перед другими видами, включая размер животных, короткий индукционный период, легкость индукции состояния и экономическую эффективность [145]. Мыши как экспериментальные животные внесли огромный вклад в понимание биологии человека. Мышиные модели широко используются для изучения заболеваний человека из-за генетической гомологии [107]. Что касается диабета, то мышиные модели являются бесценными для изучения ожирения и СД2, определения роли воспаления, резистентности к инсулину, потенциальных методов лечения [146–148]. Крыс часто используют в качестве модели для понимания метаболического профиля и патологий, связанных с разными стадиями СД2 [149]. Крыса как экспериментальная модель болезней человека обладает большими преимуществами перед мышами и другими грызунами [150]. За физиологией грызунов проще следить и накапливать объем информации [142]. Однако, чтобы получить представления о разнообразных проявлениях диабета у пациентов, крайне желательно использовать множество различных моделей. Следует исследовать более одного вида или штамма грызунов, а также учитывать пол животного, поскольку многие модели, описанные выше, например, крысы Zucker и OLETF или мышь NZO, а также многие нокаутные и трансгенные модели диабета характеризуются половым диморфизмом, что не наблюдается у людей [151]. Высказано предположение, что в некоторых случаях это связано с действием половых гормонов [152], хотя точный механизм полового диморфизма не выяснен. В самом деле, эффекты половых гормонов могут различаться в разных моделях мышей, например, гонадэктомия у самцов защищает от диабета в одних моделях и неэффективна или увеличивает заболеваемость в других [151]. Половой диморфизм может также включать различия в митохондриях и реакциях на стресс [151]. При использовании нокаутных и трансгенных мышей следует исключить наличие гипоталамического синдрома и его влияние на фенотип, необходимы соответствующие контроли.
Экспериментальные модели широко используются для изучения лекарственных препаратов и механизмов, лежащих в основе нарушения обмена веществ. Поскольку распространенность и осложнения СД постоянно увеличиваются во всем мире, модели диабета играют ключевую роль в изучении патогенеза диабета и таких его осложнений у человека, как ретинопатия, нефропатия, кардиомиопатия и невропатия. Несмотря на все преимущества этих животных в разработке новых лекарственных средств, они обладают индивидуальными ограничениями, которые также будут ограничивать разработку новых лекарств и терапевтических вмешательств. Для изучения СД2 обычно используют животных с ожирением и без ожирения, с гипергликемией, резистентностью к инсулину и резистентностью β-клеток. Поскольку экспериментальные модели различаются по своему физиологическому назначению и используются для изучения различных осложнений СД2 у человека, необходимо с большой осторожностью подходить к выбору модели для конкретного исследования. Наряду с моделями, используемыми для выяснения механизмов, лежащих в основе СД, при разработке и уточнении новых методов лечения в настоящее время применяют различные животные модели, большинство из которых позволяют изучать некоторые специфические аспекты диабета, но могут быть малоприменимы в других исследованиях. У всех моделей есть свои плюсы и минусы, и выбор модели, подходящей в конкретном случае, не всегда прост, поскольку влияет на результаты исследования и их интерпретацию. При выборе модели для СД крайне желательно, чтобы множество различных моделей использовалось для представления разнообразия, наблюдаемого у пациентов с диабетом. Число доступных моделей постоянно растет, и важно учитывать их потенциальную роль в различных аспектах изучения диабета.
Таким образом, несмотря на многообразие биологических моделей, открытой остается проблема точного соответствия большинства экспериментальных моделей процессам, протекающим в организме человека. Важно, чтобы результаты, полученные при экспериментальном моделировании с использованием лабораторных животных, представляли собой систему доказательств, которые с определенной степенью вероятности могли быть распространены на человека.
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что, хотя вопрос о том, в какой степени результаты, полученные на биомоделях, можно экстраполировать на организм человека, является одновременно и важнейшим, и сложнейшим, основным инструментом изучения патофизиологии и подходов к терапии СД остается использование экспериментальных моделей [153].
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, соглашение № 075-15-2021-1075 от 28.09.2021 г.
Об авторах
Инесса Гивиевна Гвазава
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: gvazava.inessa@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0172-9998
SPIN-код: 6559-8740
Scopus Author ID: 6603033470
ResearcherId: I-2464-2014
Россия, Москва, 119334
М. В. Каримова
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: gvazava.inessa@yandex.ru
Россия, Москва, 119334
А. В. Васильев
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Email: gvazava.inessa@yandex.ru
биологический факультет
Россия, Москва, 119334; Москва, 119991Е. А. Воротеляк
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Email: gvazava.inessa@yandex.ru
Россия, Москва, 119334
Список литературы
- IDF Diabetes Atlas 10 th Edition.
- Информационный бюллетень ВОЗ № 312, апрель 2016 г.
- Гвазава И.Г., Петракова О.C., Роговая О.С., Борисов М.А., Терских В.В., Воротеляк Е.А., Васильев А.В. // Acta Naturae. 2018. Т. 10. № 1 (36). C. 25–35.
- Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. // Сахарный диабет. 2016. Т. 19. № 2. C. 104–112.
- Дедов И.И., Ткачук В.А., Гусев Н.Б., Ширинский В.П., Воротников А.В., Кочегура Т.Н., Майоров А.Ю., Шестакова М.В. // Сахарный диабет. 2018. Т. 21. № 5. С. 364–375.
- Балаболкин М.И. // Медицинская кафедра. 2004. Т. 1. № 9. С. 48–57.
- Zheng Y., Ley S.H., Hu F.B. // Nat. Rev. Endocrinol. 2018. V. 14. P. 88–98.
- Permutt M.A., Wasson J., Cox N. // J. Clin. Invest. 2005. V. 115. № 6. P. 1431–1439.
- De Rosa M.C., Glover H.J., Stratigopoulos G., LeDuc C.A., Su Q., Shen Y., Sleeman M.W., Chung W.K., Leibel R.L., Altarejos J.Y. // JCI Insight. 2021. V. 6. № 16. P. 149137–149155.
- Weir G.C., Bonner-Weir S. //Ann. N.Y. Acad. Sci. 2013. V. 1281. P. 92–105.
- Aguayo-Mazzucato C., van Haaren M., Mruk M., Lee Jr. T., Crawford C., Hollister-Lock J., Sullivan B.A., Johnson J.W., Ebrahimi A., Dreyfuss J.M., Deursen J.V., Weir G.C., Bonner-Weir S. // Cell Metab. 2017. V. 25. № 4. P. 898–910.
- Gudkova A.Y., Antimonova O.I., Shavlovsky M.M. // Med. Аcad. J. 2019. V. 19. № 2. P. 27–36.
- Sevcuka A., White K., Terry C. // Life (Basel). 2022. V. 12. № 4. P. 583–602.
- Bhowmick D.C., Singh S., Trikha S., Jeremic A.M. // Handb. Exp. Pharmacol. 2018. V. 245. P. 271–312.
- Mukherjee N., Lin L., Contreras C.J., Templin A.T. // Metabolites. 2021. V. 11. № 11. P. 796–825.
- Hu F., Qiu X., Bu S. // Arch. Physiol. Biochem. 2020. V. 126. № 3. P. 235–241.
- Tokarz V.L., MacDonald P.E., Klip A. // J. Cell. Biol. 2018. V. 217. № 7. P. 2273–2289.
- Thurmond D.C., Pessin J.E. // Mol. Membr. Biol. 2001. V. 18. № 4. P. 237–245.
- Yaribeygi H., Farrokhi F.R., Butler A.E., Sahebkar A. // J. Cell. Physiol. 2019. V. 234. № 6. P. 81528161–81528170.
- Bitar M.S., Al-Saleh E., Al-Mulla F. // Life Sci. 2005. V. 77. № 20. P. 2552–2573.
- Sarparanta J., García-Macia M., Singh R. // Curr. Diabetes Rev. 2017. V. 13. № 4. P. 352–369.
- Latouche C., Natoli A., Reddy-Luthmoodoo M., Heywood S.E., Armitage J.A., Kingwell B.A. // PLoS One. 2016. V. 11. № 5. P. e0155108.
- Hasnain S.Z., Prins J.B., McGuckin M.A. // J. Mol. Endocrinol. 2016. V. 56. № 2. P. 33–54.
- Ткачук В.А., Воротников А.В. // Сахарный диабет. 2014. Т. 17. № 2. С. 29–40.
- Hirabara S.M., Gorjão R., Vinolo M.A., Rodrigues A.C., Nachbar R.T., Curi R. // J. Biomed. Biotechnol. 2012. V. 2012. P. 379024–379040.
- Rosen E.D., Spiegelman B.M. // Cell. 2014. V. 156. № 1–2. P. 20–44.
- Luo L., Liu M. // J. Endocrinol. 2016. V. 31. № 3. P. 77–99.
- Friedman J.M., Halaas J.L. // Nature. 1998. V. 395. № 6704. P. 763–770.
- Giralt M., Cereijo R., Villarroya F. // Handb. Exp. Pharmacol. 2016. V. 233. P. 265–282.
- Scherer P.E. // Diabetes. 2006. V. 6. P. 1537–1545.
- Stern J.H., Rutkowski J.M., Scherer P.E. // Cell Metab. 2016. V. 23. № 5. P. 70–84.
- Flenkenthaler F., Ländström E., Shashikadze B., Backman M., Blutke A., Philippou-Massier J., Renner S., Hrabe de Angelis M., Wanke R., et al. // Front. Med. 2021. V. 8. P. 751277–751289.
- Rajala M.W., Lin Y., Ranalletta M., Yang X.M., Qian H., Gingerich R., Barzilai N., Scherer F.E. // Mol. Endocrinol. 2002. V. 16. № 8. P. 1920–1930.
- Kharitonenkov A., Shiyanova T.L., Koester A., Ford A.M., Micanovic R., Galbreath E.J., Sandusky G.E., Hammond L.J., Moyers J.S., Owens R.A., et al. //J. Clin. Invest. 2005. V. 115. № 6. P. 1627–1635.
- Zhang Y., Proenca R., Maffei M., Barone M., Leopold L., Friedman J.M. // Nature. 1994. V. 372. № 6505. P. 425–532.
- Schaab M., Kratzsch J. // Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2015. V. 29. № 5. P. 661–670.
- Trusov N.V., Apryatin S.A., Gorbachev A.Yu., Naumov V.A., Mzhelskaya K.V., Gmoshinski I.V. // Problems Endocrinol. 2018. V. 64. № 6. P. 371–382.
- Scherer P.E. // Diabetes. 2016. V. 65. № 6. P. 1452–1461.
- Chawla A., Nguyen K.D., Goh Y.P. // Nat. Rev. Immunol. 2011. V. 11. P. 738–749.
- Hotamisligil G.S., Shargill N.S., Spiegelman B.M. // Science. 1993. V. 259. P. 87–91.
- Cai Z., Huang Y., He B. // Cells. 2022. V. 11. № 9. P. 1424–1437.
- Turer A.T., Khera A., Ayers C.R., Turer C.B., Grundy S.M., Vega G.L., Scherer P.E. // Diabetologia. 2011. V. 54. № 10. P. 2515–2524.
- Ahl S., Guenther M., Zhao Sh., James R., Marks J., Szabo A., Kidambi S. // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2015. V. 100. № 11. P. 4172–4180.
- Rajala M.W., Lin Y., Ranalletta M., Yang X.M., Qian H., Gingerich R., Barzilai N., Philipp E., Scherer Ph.E. // Mol. Endocrinol. 2002. V. 16. № 8. P. 1920–1930.
- Steppan C.M., Bailey S.T., Bhat S., Brown E.J., Banerjee R.R., Wright C.M., Patel H.R., Ahima R.S., Lazar M.A. // Nature. 2001. V. 409. № 6818. P. 307–312.
- Aguilar-Salinas C.A., García E., Robles L., Riaño D., Ruiz-Gomez D.G., García-Ulloa A.C., Melgarejo M.A., Zamora M., Guillen-Pineda L., Mehta R., et al. // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008. V. 93. № 10. P. 4075–4079.
- Stefan N. // Lancet Diabetes Endocrinol. 2020. V. 8. № 7. P. 616–627.
- Schleinitz D., Krause K., Wohland T., Gebhardt C., Linder N., Stumvoll M., Blüher M., Bechmann I., Kovacs P., Gericke M., Tönjes A. // Eur. J. Hum. Genet. 2020. V. 28. № 12. P. 1714–1725.
- Raajendiran A., Krisp C., De Souza D.P., Ooi G., Burton P., Taylor R.A., Molloy M.P., Watt M.J. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2021. V. 320. № 6. P. 1068–1084.
- Gastaldelli A., Gaggini M., DeFronzo R. // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2017. V. 20. № 4. P. 300–309.
- Guilherme A., Henriques F., Bedard A.H., Czech M.P. // Nat. Rev. Endocrinol. 2019. V. 15. № 4. P. 207–225.
- Duvnjak L., Duvnjak M. // J. Physiol. Pharmacol. 2009. V. 60. Suppl. 7. P. 19–24.
- Gibbs R.A., Weinstock G.M., Metzker M.L., Muzny D.M., Sodergren E.J., Scherer S., Scott G., Steffen D., Worley K.C., Burch P.E., et al. // Nature. 2004. V. 428. P. 493–521.
- Lopez-Jaramillo P., Gomez-Arbelaez D., Lopez-Lopez J., López-López C., Martínez-Ortega J., Gómez-Rodríguez A., Triana-Cubillos S. // Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. 2014. V. 18. № 1. P. 37–45.
- Perez-Perez A., Vilarino-Garcia T., Fernandez-Riejos P., Martín-González J., Segura-Egea J.J., Sánchez-Margalet V. // Cytokine Growth Factor Rev. 2017. V. 35. P. 71–84.
- Yoshida S., Tanaka H., Oshima H., Yamazaki T., Yonetoku Y., Ohishi T. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2010. V. 400. № 4. P. 745–751.
- Gault V.A., Kerr B.D., Harriott P., Flatt P.R. // Clin. Sci. (London). 2011. V. 121. P. 107–117.
- Park J.S., Rhee S.D., Kang N.S., Jung W.H., Kim H.Y., Kim J.H. // Biochem. Pharmacol. 2011. V. 81. P. 1028–1035.
- Zhang Y., Proenca R., Maffei M., Barone M., Leopold L., Friedman J.M. // Nature. 1994. V. 372. P. 425–432.
- Lindstrom P. // Scientificworld Journal. 2007. V. 7. P. 666–685.
- Fang J.Y., Lin C.H., Huang T.H., Chuang S.Y. // Nutrients. 2019. V. 11. P. 530–573.
- Chen H., Charlat O., Tartaglia L.A., Woolf E.A., Weng X., Ellis S.J., Lakey N.D., Culpepper J., Moore K.J., Breitbart R.E. // Cell. 1996. V. 84. P. 491–495.
- King A.J.F. // Br. J. Pharmacol. 2012. V. 166. № 3. P. 877–894.
- Phillips M.S., Liu Q., Hammond H.A., Dugan V., Hey P.J., Caskey C.J., Hess J.F. // Nat. Genet. 1996. V. 13. P. 18–19.
- Pick A., Clark J., Kubstrup C., Levisetti M., Pugh W., Bonner-Weir S., Polonsky K.S. // Diabetes. 1998. V. 47. P. 358–364.
- Shibata T., Takeuchi S., Yokota S., Kakimoto K., Yonemori F., Wakitani K. // Br. J. Pharmacol. 2000. V. 130. P. 495–504.
- Leiter E.H. // Methods Mol. Biol. 2009. V. 560. P. 1–17.
- Chakraborty G., Thumpayil S., Lafontant D.E., Woubneh W., Toney J.H. // Lab. Anim. (N.Y.). 2009. V. 38. P. 364–368.
- Kawano K., Hirashima T., Mori S., Natori T. // Diabetes. Res. Clin. Pract. 1994. V. 24. (Suppl.). P. 317–320.
- Clee S.M., Attie A.D. // Endocr. Rev. 2007. V. 28. P. 48–83.
- Chen W., Zhou X.B., Liu H.Y., Xu C., Wang L.L., Li S. // Br. J. Pharmacol. 2009. V. 157. P. 724–735.
- Fukaya N., Mochizuki K., Tanaka Y., Kumazawa T., Jiuxin Z., Fuchigami M., Toshinao Goda T.// Eur. J. Pharmacol. 2009. V. 624. P. 51–57.
- Mochizuki K., Fukaya N., Tanaka Y., Fuchigami M., Goda T. // Metabolism. 2011. V. 60. № 11б. P. 1560–1565.
- Guo K., Yu Y.H., Hou J., Zhang Y. // Nutr. Metab. (London). 2010. V. 7. P. 57–68.
- Jia D., Yamamoto M., Otani M., Otsuki M. // Metabolism. 2004. V. 53. № 4. P. 405–413.
- Ishiyama S., Kimura M., Nakagawa T., Fujimoto Y., Uchimura K., Kishigami S., Mochizuki K. // Front. Endocrinol. (Lausanne). 2021. V. 1. P. 746838–746845.
- Kottaisamy C.P.D., Raj D.S., Prasanth Kumar V., Sankaran U. // Lab. Anim. Res. 2021. V. 37. № 1. P. 23–35.
- Loza-Rodríguez H., Estrada-Soto S., Alarcón-Aguilar F.J., Huang F., Aquino-Jarquín G., Fortis-Barrera Á., Giacoman-Martínez A., Almanza-Pérez J.C. // Eur. J. Pharmacol. 2020. V. 883. P. 173252–173260.
- Yoshinari O., Igarashi K. // Br. J. Nutr. 2011. V. 106. P. 995–1004.
- Xu T.Y., Chen R.H., Wang P., Zhang R.Y., Ke S.F., Miao C.Y. // Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2010. V. 37. № 4. P. 441–446.
- Itoh T., Kobayashi M., Horio F., Furuichi Y. // Nutrition. 2009. V. 25. № 2. P. 134–141.
- Kluth O., Mirhashemi F., Scherneck S., Kaiser D., Kluge R., Neschen S., Joost H.G., Schürmann A. // Diabetologia. 2011. V. 54. P. 605–616.
- Lee M.Y., Shim M.S., Kim B.H., Hong S.W., Choi R., Lee E.Y., Nam S.M., Kim G.W., Shin J.Y., Shin Y.G., et al. // Diabetes. Metab. J. 2011. V. 35. P. 130–137.
- Choi R., Kim B.H., Naowaboot J., Lee M.Y., Hyun M.R., Cho E.J., Lee E.S., Lee E.Y., Yang Y.C., Chung C.H., et al. // Exp. Mol. Med. 2011. V. 43. № 12. P. 676–683.
- Fang R.C., Kryger Z.B., Buck D.W., De la Garza M., Galiano R.D., Mustoe T.A. // Wound. Repair. Regen. 2010. V. 18. P. 605–613.
- Rai V., Moellmer R., Agrawal D.K. // Mol. Cell. Biochem. 2022. V. 477. № 4. P. 1239–1247.
- Surwit R.S., Kuhn C.M., Cochrane C., McCubbin J.A., Feinglos M.N. // Diabetes. 1988. V. 37. P. 1163–1167.
- Winzell M.S., Ahren B. // Diabetes. 2004. V. 53. Suppl. 3. P. 215–219.
- Surwit R.S., Feinglos M.N., Rodin J., Sutherland A., Petro A.E., Opara E.C., Kuhn C.M., Rebuffé-Scrive M. // Metabolism. 1995. V. 44. P. 645–651.
- Bachmanov A.A., Reed D.R., Tordoff M.G., Price R.A., Beauchamp G.K. // Physiol. Behav. 2001. V. 72. P. 603–613.
- Sclafani A. // Physiol. Behav. 2007. V. 16. № 90 (4). P. 602–611.
- Almind K., Kahn C.R. // Diabetes. 2004. V. 53. P. 3274–3285.
- Torre-Villalvazo I., Cervantes-Pérez L.G., Noriega L.G., Jiménez J.V., Uribe N., Chávez-Canales M., Tovar-Palacio C., Marfil-Garza B.A., Torres N., Bobadilla N.A., et al. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2018. V. 314. № 1. P. 53–65.
- Lackey D.E., Lazaro R.G., Li P., Johnson A., Hernandez-Carretero A., Weber N., Vorobyova I., Tsukomoto H., Osborn O. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2016. V. 311. № 6. P. 989–997.
- Pereira-Silva D.C., Machado-Silva R.P., Castro-Pinheiro C., Fernandes-Santos C. // Int. J. Exp. Pathol. 2019. V. 100. № 3. P. 153–160.
- Burcelin R., Crivelli V., Dacosta A., Roy-Tirelli A., Thorens B. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2002. V. 282. P. 834–842.
- Noda K., Melhorn M.I., Zandi S., Frimmel S., Tayyari F., Hisatomi T., Almulki L., Pronczuk A., Hayes K.C., Hafezi-Moghadam А., et al. // FASEB J. 2010. V. 24. P. 2443–2453.
- Noda K., Nakao S., Zandi S., Sun D., Hayes K.C., Hafezi-Moghadam A. // FASEB J. 2014. V. 28. № 5. P. 2038–2046.
- Sinasac D.S., Riordan J.D., Spiezio S.H., Yandell B.S., Croniger C.M., Nadeau J.H. // Int. J. Obes. (London). 2016. V. 40. № 2. P. 346–355.
- Pirmardan R.E., Barakat A., Zhang Y., Naseri M., Hafezi-Moghadam A. // FASEB J. 2021. V. 35. № 6. P. 21593–21600.
- Chaabo F., Pronczuk A., Maslova E., Hayes K. // Nutr. Metab. (London). 2010. V. 7. P. 29–35.
- Weir G.C., Marselli L., Marchetti P., Katsuta H., Jung M.H., Bonner-Weir S. // Diabetes. Obes. Metab. 2009. V. 11. Suppl. 4. P. 82–90.
- Goto Y., Kakizaki M., Masaki N. // Tohoku J. Exp. Med. 1976. V. 119. P. 85–90.
- Portha B., Giroix M.H., Serradas P., Gangnerau M.N., Movassat J., Rajas F., Bailbe D., Plachot C., Mithieux G., Marie J.C., et al. // Diabetes. 2001. V. 50. Suppl. 1. P. 89–93.
- Ostenson C.G., Efendic S. // Diabetes. Obes. Metab. 2007. V. 9. Suppl. 2. P. 180–186.
- Portha B., Lacraz G., Kergoat M., Homo-Delarche F., Giroix M.H., Bailbe D., Gangnerau M.N., Dolz M., Tourrel-Cuzin C., Movassat J., et al. // Mol. Cell. Endocrinol. 2009. V. 297. P. 73–85.
- Kottaisamy C.P.D., Raj D.S., Kumar P.V., Sankaran U. // Lab. Anim. Res. 2021. V. 37. № 1. P. 23–29.
- Zhao J.D., Li Y., Sun M., Yu C.J., Li J.Y., Wang S.H., Yang D., Guo C.L., Du X., Zhang W.J., et al. // World. J. Gastroenterol. 2021. V. 2. № 8. P. 708–724.
- Szkudelska K., Deniziak M., Sassek M., Szkudelski I., Noskowiak W., Szkudelski T. // Int J. Mol. Sci. 2021. V. 22. № 5. P. 2469–2476.
- Ehses J.A., Lacraz G., Giroix M.H., Schmidlin F., Coulaud J., Kassis N., Irminger J.C., Kergoat M., Portha B., Homo-Delarche F., et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009. V. 106. P. 13998–14003.
- Okada S., Saito M., Kinoshita Y., Satoh I., Kawaba Y., Hayashi A., Oite T., Satoh K., Kanzaki S. // Biomed. Res. 2010. V. 31. P. 219–230.
- Burillo J., Marqués P., Jiménez B., González-Blanco C., Benito M., Guillén C. // Cells. 2021. V. 10. № 5. P. 1236–1247.
- Asiri M.M.H., Engelsman S., Eijkelkamp N., Höppener J.W.M. // Cells. 2020. V. 9. № 6. P. 1553–1563.
- Hoppener J.W., Oosterwijk C., van Hulst K.L., Verbeek J.S., Capel P.J., de Koning E.J., Clark A., Jansz H.S., Lips C.J. // J. Cell. Biochem. 1994. V. 55. Suppl. P. 39–53.
- Zhang X.X., Pan Y.H., Huang Y.M., Zhao H.L. // World. J. Diabetes. 2016. V. 7. № 9. P. 189–197.
- Matveyenko A.V., Butler P.C. // ILAR. J. 2006. V. 47. P. 225–233.
- Matveyenko A.V., Gurlo T., Daval M., Butler A.E., Butler P.C. // Diabetes. 2009. V. 58. P. 906–916.
- Hara M., Wang X., Kawamura T., Bindokas V.P., Dizon R.F., Alcoser S.Y., Magnuson M.A., Bell G.I. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2003. V. 284. P. 177–183.
- Sanavia T., Huang C., Manduchi E., Xu Y., Dadi P.K., Potter L.A., Jacobson D.A., Di Camillo B., Magnuson M.A., Stoeckert C.J. Jr., Gu G. // Front. Cell. Dev. Biol. 2021. V. 9. P. 648791–64801.
- Sasaki S., Lee M.Y.Y., Wakabayashi Y., Suzuki L., Winata H., Himuro M., Matsuoka T.A., Shimomura I., Watada H., Lynn F.C., et al. // Diabetologia. 2022. V. 65. № 5. P. 811–828.
- Habener J.F., Kemp D.M., Thomas M.K. // Endocrinology. 2005. V. 146. P. 1025–1034.
- Oliver-Krasinski J.M., Kasner M.T., Yang J., Crutchlow M.F., Rustgi A.K., Kaestner K.H., Stoffers D.A. // J. Clin. Invest. 2009. V. 119. № 7. P. 1888–1898.
- Wang Q., Jin T. // Islets. 2009. V. 1. P. 95–101.
- Wang B., Chandrasekera P.C., Pippin J.J. // Curr. Diabetes. Rev. 2014. V. 10. № 2. P. 131–145.
- Masiello P., Broca C., Gross R., Roye M., Manteghetti M., Hillaire-Buys D., Novelli M., Ribes G. // Diabetes. 1998. V. 47. P. 224–229.
- Junod A., Lambert A.E., Stauffacher W., Renold A.E. // J. Clin. Invest. 1969. V. 48. P. 2129–2139.
- Schein P.S., Cooney D.A., Vernon M.L. // Cancer Res. 1967. V. 27. P. 2324–2332.
- Ghasemi A., Khalifi S., Jedi S.S. // Acta. Physiologica Hungarica. 2014. V. 101. P. 408–420.
- Masiello P. // Int. J. Biochem. Cell. Biol. 2006. V. 38. № 5. P. 873–893.
- Reed M.J., Meszaros K., Entes L.J., Claypool M.D., Pinkett J.G., Gadbois T.M., Reaven G.M. // Metabolism. 2000. V. 49. P. 1390–1394.
- Chao P.C., Li Y., Chang C.H., Shieh J.P., Cheng J.T., Cheng K.C. // Biomed. Pharm. 2018. V. 101. P. 155–161.
- Gheibi S., Kashfi K., Ghasemi A. // Biomed. Pharm. 2017. V. 95. P. 605–613.
- Furman B.L. // Curr. Protoc. 2021. V. 1. P. 78–99.
- Zhang M., Lv X.Y., Li J., Xu Z.G., Chen L. // Exp. Diab. Res. 2008. V. 2008. P. 704045–704054.
- Yorek M.A. // Int. Rev. Neurobiol. 2016. V. 127. P. 89–112.
- Elsner M., Tiedge M., Guldbakke B., Munday R., Lenzen S. // Diabet. 2002. V. 45. P. 1542–1549.
- Lenzen S. // Diabetologia. 2008. V. 51. P. 216–226.
- Olefsky J., Crapo P.A., Ginsberg H., Reaven G.M. // Metabolism. 1975. V. 24. № 4. P. 495–503.
- Kibenge M.T., Chan C.B. // Metabolism. 2002. V. 51. № 6. P. 708–715.
- Srinivasan K., Viswanad B., Asrat L., Kaul C., Ramarao P. // Pharm. Res. 2005. V. 52. P. 313–320.
- Premilovac D., Gasperini R.J., Sawyer S., West A., Keske M.A., Taylor B.V., Foa L. // Sci. Rep. 2017. V. 7. № 1. P. 14158–14169.
- Skovsø S. // J. Diab. Inv. 2014. V. 5. P. 349–358.
- de la Garza-Rodea A.S., Knaän-Shanzer S., den Hartigh J.D., Verhaegen A.P., van Bekkum D.W. // J. Am. As. Lab. Anim. Science. 2010. V. 49. P. 40–44.
- Furman B.L., Candasamy M., Bhattamisra S.K., Veettil S.K. // J. Ethnopharmacol. 2020. V. 30. № 247. P. 112264–112274.
- Wu K.K., Huan Y. // Atherosclerosis. 2007. V. 191. № 2. P. 2419–2426.
- Heydemann A. // J. Diabetes Res. 2016. V. 2016. P. 2902351–2902360.
- Islam M.S., du Loots T. // Meth. Find. Exp. Clin. Pharmacol. 2009. V. 31. № 4. P. 249–261.
- Iannaccone P.M., Jacob H.J. // Dis. Model Mech. 2009. V. 2. № 5–6. P. 206–210.
- Sharma P., Garg A., Garg S., Singh V. // Asian J. Biomat. Res. 2016. V. 2. P. 99–110.
- Bryda E.C. // Mol. Med. 2013. V. 110. № 3. P. 207–211.
- Franconi F., Seghieri G., Canu S., Straface E., Campesi I., Malorni W. // Pharm. Res. 2008. V. 57. № 1. P. 6–18.
- Arai I., Miyazaki N., Seino Y., Fukatsu A. // Biosci. Biotech. Biochem. 2007. V. 71. P. 1920–1926.
- Mestas J., Hughes C.C. // J. Immunol. 2004. V. 172. № 5. P. 2731–2738.
Дополнительные файлы